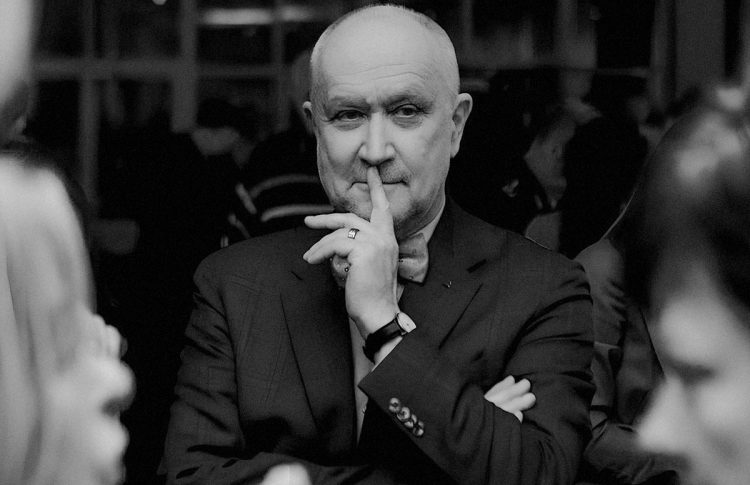ЛЮДМИЛА МОНАСТЫРСКАЯ: «Сцена — мой способ преподавания»

Людмила Монастырская / Фото из личного архива
КРАТКИЙ ПРОФИЛЬ
Имя: Людмила Монастырская
Дата рождения: 25 мая 1975 года
Место рождения: Ирклиев, Украина
Профессия: певица, солистка Национальной оперы Украины
Это интервью состоялось на следующий день после большого концерта на сцене Национального дворца искусств «Украина», где народная артистка Украины, лауреат Государственной премии им. Тараса Шевченко Людмила Монастырская исполнила одну из самых знаменитых и трогательных арий в мировой опере — O mio babbino caro из «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини.
Мы встретились, чтобы поговорить о ее творческом пути, а также о I Международном конкурсе оперных певцов Recitar Cantando, который проходит в Одесском театре оперы и балета и в жюри которого вошла Людмила.
Но разговор начался с темы детства.
Жанна Крючкова: «Все мы родом из детства», — говорил Сент-Экзюпери. Ведь детство — это страна, которую невозможно забыть. Вы согласны?
Людмила Монастырская: Я росла между двумя селами в Черкасской области — Ирклиев и соседнее село на Чернобаевщине, откуда родом оба моих родителя. Мы постоянно ходили от одной бабушки, Марии, к другой, Евдокии, — пешком, по полям, по простору. И это были по-настоящему беззаботные дни. Я любила это пространство — село, воздух, уток и гусей на пруду. Где бы я ни была — даже в шумном мегаполисе — я все равно интуитивно ищу места, где можно услышать родную, мягкую тишину.
Один день из детства мне врезался в память, словно кадр из фильма. Мы приезжаем к бабушке. Идем в поле, а там работает полив. Фонтанчик. Мы, дети, купаемся под ним, как под душем, в своих летних сарафанчиках — смеемся, плескаемся. Мне, может, лет девять. Воздух горячий, пахнет землей и летом. Как это было чудесно! А потом — бабушкин дом. И обязательно что-то вкусное: борщ, жаркое, пирожки…
Или, помню, зима, я лежу на теплой печке, а в доме пахнет свежеиспеченным хлебом… Все — свое, все — натуральное. Парное молоко, фрукты, овощи. Сейчас все привыкли к магазинному, а тогда продукты были настоящими. Современным детям этого не хватает. То было время, когда еда была не просто едой — а заботой. Я очень любила бывать у своей бабушки. Там царила особая энергетика. Многие нынешние дети, думаю, в этом нуждаются.
Ж. К: Вы сейчас вторите словам Астрид Линдгрен: «Дайте детям больше света — и они осветят этот мир».
Л. М: Я с этим высказыванием согласна на сто процентов. Детей надо холить и нежить. Давать им свет, любовь. А еще умные люди говорят, что важно потом не ждать от детей благодарности. И это тоже верно.
Ж. К: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в профессию?
Л. М: Музыка всегда звучала в нашем доме. Пела мама, пел дедушка, пела бабушка. Самая любимая песня моего дедушки была вот эта:
Ой, гиля, гиля,
Гусоньки, на став,
Добрий вечір, дівчино,
Бо я ще й не спав.
Ой, не спав, не спав,
Й не буду спати –
Дай же мені, дівчино,
Повечеряти…
Ее в Украине никто не знает — она живет только на нашей Чернобаевщине. Не хочется, чтобы она исчезла. А в Ирклиеве, в нашей семье, часто звучала другая:
Гиля, гиля, сірі гуси,
Не колотіть води.
Посватали дівчиноньку,
Плаче козак молодий.
Не плач, не плач, козаченьку,
Не плач, не плач, не журись.
Як я сяду до посагу —
Прийди, серце, подивись.
А вот эту песню многие знают. Для меня эти украинские песни — как голос нашего рода. У моей мамы был удивительный голос — с природной постановкой, такой же, как у меня. Мне повезло унаследовать этот дар. В детстве я просто выходила в поле и пела, на одном дыхании.
Уже в пятнадцать лет я ощущала себя готовой певицей. А в семнадцать исполняла арию Тоски — именно с ней выпускалась из музыкального училища, которое закончила экстерном, пройдя третий и четвертый курсы за один год. С этой же арией я поступила в консерваторию.
Ж. К: Вы — человек сцены, с яркой индивидуальностью и сильным голосом. А возникало ли у вас когда-нибудь желание преподавать?
Л. М: Преподавать? Нет… не мое это. Меня уже давно и настойчиво приглашают. А я не хочу. Сам процесс преподавания для меня ужасно нервный. Объяснения, «правильные звуки», дыхание, постановка… Это все иногда настолько механично, что просто устаешь от одного только представления.
А люди ведь разные. Правда — одного Бог одарил, у него голос льется так, что все вокруг поет. А другой старается, пыхтит, мучается, но, может, ему вообще в жизни нужно было не петь, а, не знаю… книги писать, землю копать, пьесы в театре ставить — все что угодно. А ты его сидишь и учишь «правильно издавать звук». И зачем? Кому это нужно? Мне это неинтересно. Если кто-то хочет — пожалуйста, пусть приходит в зал, слушает. Сцена — вот мой способ преподавания. А учить, кого-то «тащить»… я этого не люблю.
Когда-то давно были у меня частные уроки. Но это ведь большая ответственность — взять на себя судьбу ребенка. А вдруг что-то пойдет не так? Это уже не просто урок, это — выбор пути. Я говорю это совершенно откровенно. Пусть кто-то осудит, пусть не поймет — но я знаю себя. Несколько уроков — еще ладно. Но для того, чтобы вести человека, формировать его, у меня, честно говоря, нет особого педагогического таланта.
Ж. К: А кто был вашими учителями?
Л. М: Я очень благодарна моим преподавателям из обычной общеобразовательной школы, которые привезли меня в Киев. И я сразу же попала к Ивану Игнатьевичу Паливоде — тогда он был заведующим вокальной кафедрой Киевского музыкального училища имени Рейнгольда Глиэра (сейчас — Киевская муниципальная академия музыки имени Глиэра). Он посмотрел на меня и сказал: «Будешь у меня учиться вокалу. Просто поработаем над диапазоном, ломать тут нечего».
У меня уже мутация прошла, голос оформился. А мне ведь было всего 15 лет. Это редчайший случай, когда в таком возрасте поступают в профессиональное учебное заведение. Паливода начал постепенно приучать меня — к дисциплине, к звучанию, к настоящей сцене. И его родная сестра, Диана Игнатьевна Петриненко, тоже сыграла важную роль в моем становлении.
Я тогда была еще подростком, только приехала из Черкасской области, скучала по дому, по родным. До поселка из Киева ехал один автобус — билеты достать было почти невозможно. А Иван Игнатьевич был для меня как дедушка. Ему было за шестьдесят, но в нем чувствовалась та редкая, настоящая украинская интеллигентность, которую не спутаешь ни с чем.
Ж. К: В чем заключалась сила Ивана Игнатьевича как педагога?
Л. М: В мягкости и достоинстве. Он ни на кого не давил, не делил на любимчиков. Работал с разными голосами — у него были и басы, и меццо-сопрано, и высокие колоратурки. Я шла как крепкое сопрано. Многие почему-то думают, что я меццо, но это не так. Он это сразу понял.
Его задача была — просто расширить мой диапазон, укрепить технику. Урок начинался ровно в девять утра, без опозданий. Нужно было прийти уже немного размятой, как после небольшой зарядки. Он сам следил за своим здоровьем и всегда подчеркивал, насколько важно для меня следить за своим.
Вы знаете, итальянцы часто спрашивают меня, где я училась. А у меня действительно хорошая вокальная школа. Я спела больше двадцати партий — и все они очень разные. У одного только Верди какая разница: леди Макбет — это одно, а Леонора из «Трубадура», которую я пела буквально позавчера, — совсем другое. Один и тот же композитор, а какая разная природа голоса требуется! Если нет школы, ты просто не справишься.
А Иван Игнатьевич был именно тем, кто эту школу давал. Мы уважали его безоговорочно. От него мы никогда не слышали ни грубого слова, ни крика. Мне невероятно повезло, потому что я слышала и другие истории — когда педагог кричит или, извините, даже может в рот руками полезть… У нас этого не было. Он вел нас по-настоящему бережно. Мы почти все были иногородними, жили в общежитии. А он мог отвести нас в столовую и накормить за свой счет. Просто так. От души. Это был настоящий Человечище.
Ж. К: Дал ли Иван Игнатьевич вам какое-то напутствие, которое вы пронесли через всю жизнь?
Л. М: Да. Был один момент… Я тогда была совсем молодой, лет восемнадцати. Он подарил мне сборник оперных арий и написал на первой странице — по-украински: «Тільки в наполегливій праці ці оперні героїні стануть окрасою твого репертуару».
Так оно и случилось. Все, что было в этом сборнике, я сегодня пою. Абсолютно все! Это и Чио-Чио-Сан, и Елизавета из «Дона Карлоса», и леди Макбет из «Макбета», и Амелия из «Бала-маскарада», и Абигайль из «Набукко», и Леонора из «Трубадура», и вторая Леонора — из «Силы судьбы». Это и Одабелла из «Аттилы», и Лукреция Контарини из «Двух Фоскари», и, конечно, Аида. Это огромное количество партий… Сейчас даже не сразу всех вспомнишь.
Но он тогда уже как будто знал. И главное — верил в меня. Когда его не стало — это был страшный удар. К сожалению, я начала терять самых близких людей… В 2004 году не стало Ивана Игнатьевича, в 2018-м — его Дианочки Игнатьевны, а два года назад — моей любимой мамочки… И каждый раз — будто отрывают кусок тебя.
Ж. К: Людмила, а какую роль сыграла мама в вашей жизни?
Л. М: Огромную. Мама в меня всегда верила. Вела меня по жизни, ей хотелось, чтобы я голос свой развивала. Она переживала за мое поступление — и в училище, и в консерваторию. Всегда была рядом. Мы с ней даже в студенческом общежитии спали на одной железной кровати — валетом. На той, что все время проваливалась.
Ж. К: Какой она была?
Л. М: Мама для меня — образец. И внешности, и воспитания, и внутренней силы. Всегда красивая, ухоженная, интеллигентная. За всю свою жизнь я ни разу не услышала от нее ни одного грубого слова, тем более матерного.
Она пела в церковном хоре. Но делом ее жизни было преподавание. Быть сельским учителем, как моя мама, — это, с одной стороны, благородно, а с другой — невероятно тяжело. И морально, и физически. Я это видела с детства. Поэтому всегда говорю: «Дай Бог здоровья и терпения всем учителям. Это по-настоящему героический труд».
Ж. К: Вы упомянули, что, помимо работы учителем, ваша мама находила время и для пения в церковном хоре.
Л. М: Да, в хоре она пела более 20 лет. Ее талантов хватило бы на несколько жизней. Моя мама была настоящей носительницей украинской культуры — в самом глубоком и светлом смысле. У нее было удивительное хобби — она обожала заниматься садом и домом. Всегда смотрела два телевизионных канала — «Дача» и «Усадьба». Оттуда она черпала идеи, которые воплощала потом в жизнь с огромной любовью и вкусом.
Но садоводство было лишь частью ее мира. Мама вышивала скатерти, рушники, салфетки и целые картины. Не просто крестиком — а так, что в готовых работах невозможно было сразу распознать нити: казалось, перед тобой картина, написанная кистью. Огромные картины, тончайшая техника. На местных выставках демонстрировались ее работы — у нас даже остались фотографии.
Она родилась 19 января — в день Крещения Господня — и с улыбкой говорила: «У меня день рождения в праздник, в числе». В народной традиции так говорят о тех, кто появился на свет именно в день большого церковного праздника. Для нее это всегда было особенно радостным совпадением. Трудолюбие, забота и любовь к традициям — все в ней было цельным.
Ж. К: В детстве вы наверняка ели самый вкусный борщ на свете…
Л. М: Да. По рецепту моей бабушки — это был густой борщ с петухом. Не с курицей. От этого вкус становился другим: более насыщенным, ароматным. У нас в семье так и говорили — «півник». Фасоль бабушка всегда замачивала с вечера. И еще добавляла много морковки — может быть, поэтому цвет у борща был не красный, а мягкий, почти янтарно-оранжевый. Все в борще домашнее — наверное, поэтому вкус был такой, который забыть невозможно.
Ж. К: Учитывая настолько насыщенный гастрольный график, в чем вы нуждаетесь, чтобы восстановиться, почувствовать себя собой?
Л. М: Мы начали нашу беседу с моих воспоминаниях о селе. Ведь я очень люблю простор. Где бы я ни была — в Лондоне, в Нью-Йорке — я все равно ищу какой-то оазис. Такое место, где можно выдохнуть, где чувствуется воздух, трава, тишина. В Лондоне, например, это Сент-Джеймсский парк. В нем есть такой участок — немного дикий, заросший осокой, камышом…
Это как будто часть моей Черкасской области — прямо в центре мегаполиса. Подобное я находила и в Централ-парке в Нью-Йорке, и в Мюнхене, и в Париже. Я везде ищу такие уголки природы. Это для меня как реанимация. Нет, туфли я, конечно, не снимаю, чтобы не пугать прохожих (смеется). Но до того хочется пройтись босиком по траве, напомнить себе, как это было в моем детстве!
Ж. К: А кроме борща что еще вы помните из традиционной кухни вашей семьи?
Л. М: О, помню маковые блюда. Моя бабушка даже немного мака сажала у себя на огороде — тогда это было разрешено. Она сама растирала его. Это целый ритуал был. Садилась на пол, между ног ставила большую ступу — макитру — и макогоном растирала мак, добавляя чуть-чуть водички.
Представьте, какое это было усилие — прямо физическая работа! Мак становился белесым, и появлялось маковое молочко. Потом бабушка пекла такие пышные коржи. Пока еще горячие, разрывала их руками на кусочки, заливала тем самым маковым молочком, добавляла немного меда.
Это были шулики — традиционное блюдо Центральной Украины. Его нередко упоминают в литературе — Нечуй-Левицкий, например, в «Кайдашевой семье». Тогда все казалось будничным, а теперь вспоминаешь — и сердце сжимается от нежности. Простая еда, но в ней столько любви и тепла.
Ж. К: Расскажите про Ирклиев. Вы же родом оттуда… Что вы помните?
Л. М: Это поселок городского типа в Черкасской области с глубокими казацкими корнями. Ему уже более четырехсот лет. Даже в советские времена, несмотря на активную русификацию, украинский язык у нас продолжал жить — в семьях, в школе, на улицах, в песнях. Он передавался от поколения к поколению. Поэтому украинский — мой родной язык. А русский я выучила уже позже.
Интересно, что еще в XVIII веке в Ирклиеве действовали четыре православных храма. В советские годы их разрушили. Но в независимой Украине Троицкую церковь, стоящую на горе, отстроили заново. В этом храме и пела моя мама. Знаете, как красиво — почти торжественно — подъезжать к Ирклиеву: храм на холме встречает тебя. В моем детстве Ирклиев жил насыщенной, деятельной жизнью. У нас был хлебозавод и даже собственный маслосырзавод, продукция которого шла на экспорт — представляете, из нашего поселка!
А еще помню, как из Черкасс в Ирклиев ходил катер, а до Киева можно было добраться по Днепру на «ракете» — скоростном речном теплоходе. У нас даже был промышленный порт: баржи загружали песком, камнем и другими строительными материалами. Имелась и полноценная пристань с причалом и пляжем рядом — мы там купались. Сейчас все это заброшено, но в памяти — живое.
Кроме областного аэропорта в Черкассах в области был еще один небольшой аэродром. Помню, как мы с родителями летали оттуда в Крым. А еще в Ирклиеве был парк аттракционов со своим колесом обозрения.
Сам поселок делился на две части: старинную и более «модерновую». Именно в новой части находилась экспериментальная школа, где внедряли современные образовательные методики. Я тогда была ребенком, но помню, как часто приезжали комиссии проверять нововведения. Моя мама, как педагог, принимала в этом процессе активное участие. Это было для нее делом жизни.
Ж. К: Когда речь идет о вашем дебюте в Берлине (Tosca, 2009) и «впрыгивании» в Aida в Covent Garden, часто звучит выражение «в последний момент». Как вы справляетесь с таким стрессом, и что помогает сохранять спокойствие?
Л. М: Очень хорошо, что вы именно на этом акцентировали внимание. Я бы и сама себе задала этот вопрос. Наверное, я действительно очень стрессоустойчивая. Вообще, мой девиз: «Будь готов — всегда готов». Мне не нужно долго настраиваться. Я могу в любой момент выйти в бой — без лишних размышлений. Кстати, я люблю стрелять — и из лука, и из винтовки. Попадаю в десятку. Думаю, могла бы быть снайпером, если бы не пела (смеется). Это про собранность и концентрацию.
Ж. К: Вы известны как ведущая исполнительница партий Верди: в «Аиде», «Набукко», «Maкбете». Какие партии особенно близки вашему голосу — и вашей душе?
Л. М: Я поняла, что мне очень удобно петь Верди. Особенно белькантовые партии, где кантилена, где все построено на дыхании, на линии. Например, Леонора в «Трубадуре» — это одна из таких. Или Елизавета в «Доне Карлосе». А еще Амелия в «Бале-маскараде». Вот эти три я бы выделила. И Леонора из «Силы судьбы» — она другая, не такая, как Леонора из «Трубадура». Сложнее. Для меня, по крайней мере. Это, конечно, субъективно, потому что у каждого свой голосовой аппарат, свой организм, своя физиология.
Ж. К: А какая из этих героинь вам по-человечески ближе?
Л. М: Елизавета из «Дона Карлоса». Там такая драма: она любит Карлоса, но выходит замуж за его отца — короля Филиппа. Ради долга. Ради страны. Ради чести. Представляете? Это очень по-женски. Жертвенность. Но не показная, а внутренняя, глубокая. Я вообще чувствую сильную близость к таким женщинам — которые могут пожертвовать собой. Не знаю, почему, но у меня внутри это откликается.
А Аида… это вообще трагедия. Если вдуматься: она умирает в гробнице, заживо. Без воздуха. Уже галлюцинации начинаются. Даже музыкальные фразы говорят об этом — там такие интервалы, будто героиня постепенно теряет разум. И это звучит очень пронзительно. Я люблю в это углубляться. Понимать, проживать. Может, потому и сын у меня пошел в психологию. Уже много лет этим занимается, и я вижу, что он увлечен и у него действительно получается.
Ж. К: Известно, что вы работали со звездами мировой величины. Как сотрудничество с Пласидо Доминго повлияло на вашу вокальную манеру или сценическое видение?
Л. М: Существенно повлияло. С Пласидо Доминго мы пели вместе «Двое Фоскари» — это ранний Верди, потом «Макбета» в Штаатсопере в Берлине. Мы исполняли «Набукко» в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и где-то даже в концертной версии — не сосчитать уже.
Такие люди, как Пласидо, всегда что-то тебе дают. Например, он однажды сказал мне: «Не увлекайся грудным регистром». Я тогда пела «Макбета», и некоторые фразы, особенно из малой октавы, легко садились у меня на грудь — мои связки это позволяют. А он сказал: «Если будешь увлекаться — сойдешь с дистанции рано. Лучше собирай звук, концентрируй его». Я это запомнила.
Ж. К: Есть ли какая-то история, связанная с Пласидо, которая особенно запомнилась? Каков он в работе и в жизни?
Л. М: Пласидо — настоящий испанский caballero. Даже сейчас, в солидном возрасте, он всегда отметит красоту. При первой встрече подошел, улыбнулся: «Какие у тебя глаза!» — и все сказано. Для него это естественно, это у него в крови.
Но главное — он профессионал. В репетиционном зале, что скажет режиссер — то он и делает, без скидки на годы и статус. Нужно петь дуэт полулежа на полу — будет петь полулежа. Надо взобраться по крутой скользкой лестнице, где нет перил, — взберется и споет. Его не смущают тьма, наклон сцены, отсутствие опоры — если так задумано, он выполнит.
А ведь многие современные постановки опасны: подвесы, конструкции под углом, моментальный выход «из ниоткуда». Пласидо принимает все эти риски как часть искусства. Поэтому работать с ним как с коллегой, и даже под его дирижерской палочкой (он ведь еще и дирижер), легко: внимание, уважение к партнерам и абсолютная готовность идти до конца. О приключениях на таких «экстремальных» площадках можно говорить часами — это, пожалуй, тема для отдельного интервью!
Ж. К: А как вы вспоминаете работу с Лео Нуччи? Это ведь был ваш дебют в «Ла Скала»?
Л. М: Да, это была моя премьера — партия Абигайль в «Набукко». В 2013 году… И это было как вчера. Время летит. Лео Нуччи тогда провел со мной настоящий мастер-класс. Мы хорошо проработали самую известную арию героини. Недавно я как раз исполняла «Набукко» в Риге и услышала от коллег: «Идеально!» А все благодаря ему.
Он делился секретами, объяснял тонкости. Главный совет — все должно идти от дыхания. Это и музыкальность, и техника, и высокая позиция. Главное — не «под» ноткой, а точно в нее, чтобы интонация была чистой.
Знаете, я пела с такими дирижерами, которые мне раньше и не снились. Джеймс Ливайн, Риккардо Мути, Зубин Мета, Кристиан Тилеман, Даниэль Баренбойм… Это опыт, который остается со мной навсегда. Каждый из них — легенда, и у каждого своя школа, свое видение, свой подход.
Ж. К: Во время войны вы заменили Анну Нетребко в «Турандот» на сцене Метрополитен-опера и вышли с украинским флагом. Это была ваша идея?
Л. М: Да, моя. Кто-то верит, кто-то нет, но именно так и было. Когда Питер Гелб, директор театра, предложил мне спеть Турандот, я сразу подумала: «Не просто спою, а выйду с флагом». Я понимала, что это может быть нелегко — все-таки Метрополитен-опера — интернациональный театр, с публикой и артистами со всего мира. Я подошла к Питеру и спросила: «Можно я выйду с флагом?» Он ответил: «Let me think about it», — и пошел советоваться. Потом вернулся и сказал: «Да». И сам мне принес этот флаг.
Для меня это было важно. Я гордилась тем, что могу выйти не просто как певица, а как украинка. В тот момент я стояла на сцене Метрополитен-опера и пела, зная, что по ту сторону океана моя страна переживает страшные дни. И я чувствовала: я — ее голос.
Один из спектаклей, кстати, был дневной — матине (от французского matinée), когда в Америке еще день, а в Европе уже вечер — тогда шла прямая HD-трансляция. И в этот день флаг Украины увидела вся Европа.
Ж. К: Как вы относитесь к так называемой «культуре отмены»? Особенно в контексте войны: насколько оправдано исключение определенных имен из афиш?
Л. М: Это непростой вопрос. Я училась еще в те времена, когда в камерном классе мы обязательно исполняли Рахманинова. Это была неотъемлемая часть профессионального становления. Я сама пела Лизу в «Пиковой даме», Татьяну в «Онегине», Иоланту — три партии Чайковского, каждая из которых по-своему гениальна. Да, это великая музыка, и отрицать это невозможно.
Но сегодня — другая реальность. Наши дома разрушают, наши дети не спят спокойно, и нам остается разве что молиться Богу. Мне до сих пор кажется, что это кошмарный сон. В таких обстоятельствах восприятие культуры в Украине меняется. Это не про цензуру. Это про боль.
В то же время Европа не вводит никаких ограничений. Там «Пиковая дама», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» — все звучит, все идет полным ходом. Потому что у них нет войны. Но в Украине другая ситуация — и к этой ранимости нужно относиться с пониманием. Это реакция на травму, которая еще не затянулась.
С другой стороны, сейчас в Украине стали поднимать огромный пласт собственной, часто забытой музыки. Например, Керри-Линн Уилсон, жена Питера Гелба, генерального директора Метрополитен-опера, занимается тем, что находит утерянные украинские произведения — не только в Украине, но и в архивах Швеции, США, Канады. Это по-настоящему важная работа. Потому что речь идет не просто об ответе, а о возвращении собственного голоса.
Ж. К: Как вы восприняли приглашение в жюри конкурса оперных исполнителей?
Л. М: Скажу честно, уговаривали. Я вообще конкурсы не люблю — сама когда-то участвовала и знаю, как это все субъективно. Одному нравится колоратурное сопрано, другому — меццо, кто-то любит баритонов, кто-то — теноров. Кому-то импонирует Кармен, а кому-то — Лючия. Всем не угодишь.
Я так не люблю кого-то судить, не люблю людей обижать. Но в условиях войны любая инициатива, которая поддерживает таланты, которая говорит: «жизнь продолжается», — важна как никогда. Так что, не смогла отказать руководству Одесского оперного.
Я уже давно и тесно сотрудничаю с Одесским национальным академическим театром оперы и балета, в первую очередь с его бессменным руководителем Надеждой Матвеевной Бабич. Рядом с ней — надежная команда: заместитель Сергей Мюльберг, помощница Людмила Сергийчук, главный дирижер Василий Коваль. Это крепкое, профессиональное руководство, с которым приятно работать.
И о публике одесской я хочу сказать — я восхищена! Восхищена талантливейшей, абсолютно искреннейшей публикой. Я и сама, когда бываю в Одессе, очень люблю ходить в Одесский оперный театр — как слушатель. Я многое там посетила — и оперы, и балеты — на все стараюсь попасть. И каждый раз смотрю на публику — какая же шикарная публика в Одессе!
Я восхищена жителями Одессы — как талантливейшими и стойкими людьми — настолько стрессоустойчивыми, настолько сильными! Люди, которые вопреки всему плохому, что, к сожалению, сейчас происходит в нашей жизни, продолжают развиваться, смеяться, радоваться, ловить кайф от жизни. Жить на полную.
Ж. К: Что вы хотели бы увидеть в участниках конкурса?
Л. М: Наши участники от 18 до 36 лет — это уже не дети, а вполне осознанные исполнители. Я не жду от них зрелости мастеров, но жду индивидуальности. Чтобы не просто брали ноту, а через нее демонстрировали характер. Это чувствуется сразу — есть ли внутри что-то живое.
Кто знает, вдруг появится самородок — такой голос, который слушаешь и думаешь: «Ого! Это же дар, это от Бога!» Такое всегда вдохновляет. Ради этого все и стоит делать. И это лучший итог любого конкурса.
При копировании материалов размещайте активную ссылку на www.huxley.media
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter